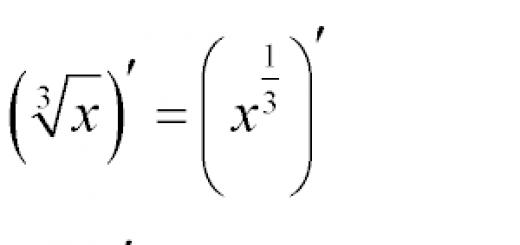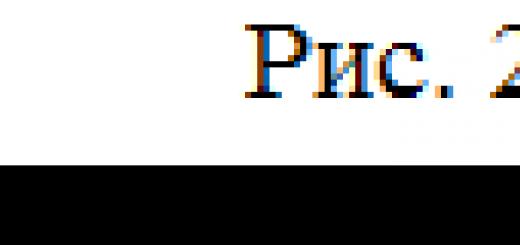Повесть о Ерше Ершовиче - страница №1/1
Повесть о Ерше Ершовиче
В море перед большими рыбами сказание о Ерше, Ершове сыне Щетинникове, об ябеднике, воре, разбойнике и лихом человеке, и как с ним тягались рыбы Лещ да Голавль
Был в некотором городе Ростовского уезда суд. Судил боярин Осетр, да воевода Хвалынского моря Сом, да тут же в суде сидели судные мужики – Судак да Щука-трепетуха. Били челом на Ерша, а в том челобитье написано:
«Бьют челом и плачутся божии сироты, а ваши крестьяне Ростовского уезда, рыбы Лещ да Голавль. Жалоба к вам, господам, на Ерша, Ершова сына Щетинникова, на ябедника, на лихую образину, раковые глаза, острые щетины, на бездельника, непотребного человека. Исстари, господа, нам было приписано Ростовское озеро и дано было вами в вотчину нам, сиротам вашим, после отцов наших навеки прочно. А тот Ерш – ябедник, бездельник, обмерщик, обворщик, лихой человек, постылая собака, острые щетины – пришел из Волги-реки, из Ветлужского поместья, Козьмодемьянского уезда, по Выре-реке к нам в Ростовское озеро. Приволокся в зимнюю непогожую пору, окоченел, замазался и заморозился, словно рак, и ноздри себе замарал. А кормился он, идучи, по болотам и, придя к Ростовскому озеру, попросился к нам ночевать на одну ночь, а назвался неизвестным крестьянином. Потом, переночевав, упросил, чтоб ему у нас до времени пожить, обогреться и покормиться с женкою и с детишками своими. А идти бы ему жить-жировать обратно в Кудму-реку. И тот Ершишка-воришка в нашем Ростовском озере подле нас пожил и детишек расплодил, дочь свою выдал за Вандышина, Расплевина сына, и стакнулся со всем племенем своим скопом против нас в заговоре, нас, крестьян, перебил и разграбил и щетиньем своим острым изувечил, из вотчины вон выбил и озером завладел понапрасну, надеясь на свое насилие да на острое щетинье, а нас, с женами и детишками, хочет поморить голодной смертью. Смилуйтесь, государи бояре-судьи, дайте праведный суд».
И по тому прошению Ерш в ответ пошел. А в ответе сказал: «В сем деле отвечать буду, а на них буду искать за бесчестье мне большое. Назвали они меня бездельным человеком. А я их отнюдь не бил и не грабил; ничего не знаю, не ведаю. А озеро Ростовское – мое, да еще и дедовское. Дано навеки прочно старому Ершу, деду моему. А родом исстари мы детишки боярские, из мелких бояр, переяславцы, по прозвищу Вандышевы. А тот Лещ да Голавль бывали у отца моего в холопах. И я, не похотев греха на батюшкину душу, отпустил их на волю да велел им жить у себя, поить и кормить нас от своих трудов. А из их племени иные есть и ныне у меня в дворне, в холопах. А как озеро высохло в погожее лето и оскудело и настала скудость и голод великий, тот Лещ да Голавль сами уволоклись на Волгу-реку и расселились там по заливам, а потом покусились на мою голову с челобитьем, отчего мне житья не стало. Захотели они меня вконец разорить понапрасну. А они сами по воровству своему на свет не показывались, от меня и от крестьянства прятались. Я же отца своего вотчинами и ныне живу. Не тать я и не разбойник, а добрый человек, живу я своею силенкою, кормлюсь от своей вотчинки, да меня же знают большие князья, бояре, дьяки и гостиные сотни во многих городах, и кушают меня честно, с похмелья животы поправляют».
И судьи истцам стали говорить: «Чем вы Ерша уличаете?» И те начали Ерша уличать, и говорить: «Господа наши судьи, уличим мы его по всей правде, шлемся на причастных к делу свидетелей. Есть у нас добрые люди свидетели: в Новгородской области в Ладожском озере рыба Белуга, да в Неве-реке из доброй же рыбы – Ряпушка, да в Переяславском озере рыба Сельдь залесская, – что поистине то Ростовское озеро наше».
И Ерш в ответ сказал: «Господа судьи! На рыбу Белугу, Ряпушку и Сельдь не сошлюсь, затем что они им сродни и пьют и едят вместе и оттого по мне не скажут. И люди они зажиточные, а я человек небогатый; потому за проезд мне платить нечем, а путь дальний».
И судьи послали, помимо истцов и ответчиков, рыбу Окуня, а за проезд порешили взыскать с виноватого. А в понятые брали с собою Налима-рыбу. И Налим сказал судьям, что в понятых ему нельзя быть. «Брюхо, – говорит, – велико, глаза малы, губы толсты, говорить не умею и память плоха». И потому его за немощью отпустили, а взяли в понятые рыбу Язя да с блюда пригоршню мелкой рыбы. И свидетели по сыске сказали: «Лещ да Голавль – добрые люди, божии крестьяне, кормятся от своей силенки, вотчинкою, а тот Ерш – ябедник, лихой человек, крестьянин, а живет он по рекам и озерам на дне, а на свету мало бывает да, словно змей, из куста колет своим щетиньем. И тот Ерш, выходя в устье, заманивает большую рыбу в невод, а сам всегда вывернется. Куда он, вор, ни попросится ночевать, везде хочет он самого вотчинника подсидеть, и многих людей своим ябедничеством он разорил. Кого из них попустил, а иных поморил голодною смертью. Отродясь у него никого среди детей боярских не бывало». – «А еще он, Ерш, сказывал, будто его знают в Москве и кушают князья да бояре, и правду ли-де он о том объявил?» И истцы показали, что знают Ерша бражники, и кабацкие голыши, и всякие неимущие люди, которым не на что доброй рыбы купить. Купят они ершей на полушку, да половину их разбросают, а другую выплюнут, а остальное выплеснут под ноги да собакам дают есть».
И Осетр сказал: «Господа, я вам не показчик и не свидетель, и скажу вам я правду божескую, а свою беду. Как шел я к Ростовскому озеру и к рекам обильным жировать, тот Ерш повстречался со мною в устье Ростовского озера и назвался мне братом. А я лукавства его не знал, спросить мне было некого про него, лихого человека. А он меня спрашивал: «Куда-де ты идешь, братец Осетр?» И я ему сказал: «Иду-де я к Ростовскому озеру, к рекам обильным жировать». И он мне сказал: «Не ходи ты, братец Осетр, к Ростовскому озеру, к рекам обильным жировать. Стоил-де, братец, я поболе тебя, и пошире твоих бока мои были, от одного берега до другого, так что терлись о берега реки, а очи мои были как полные чаши, а хвост мой был как у большого судна парус, в сорок саженей. А ныне ты, братец, видишь и сам каков иду из того Ростовского озера». И я его послушал, на его обманные слова поддался и воротился: жену и детей с голода поморил, сам от него, Ерша, вконец пропал. Да тот же Ерш, господа, обманул меня, что простого мужика, привел меня к неводу. «Братец-де Осетр, идем в невод, там рыбы наедимся». И я его послушал, на его обманные слова поддался, пошел за ним в невод; думал было воротиться, да и увяз. А тот Ерш выскочил сзади через дыру и сам надо мною же посмеялся: «Ужели ты, братец Осетр, рыбы наелся?» И как меня поволокли из воды на берег, начал он со мною прощаться: «Прости-де, братец Осетр, не поминай лихом»”.
И судьи приговорили: Леща оправдали, а Ерша обвинили, и выдали Ерша истцу, Лещу, головою, и велели его казнить торговой казнью: на солнце в жаркие дни повесить его за воровство и за ябедничество.
А судебное дело правили всё добрые люди. Дьяк был Сом с большим усом, судебную запись вел Вьюн, да был еще добрый человек Карась, а печать положил Рак-глазун левою клешнею, а при том сидел еще Вьюн переяславский да Сиг ростовский, а скрепила Стерлядь своим долгим носом. Судебному делу конец. Калязинская челобитная
Великому господину преосвященнейшему архиепископу Симеону Тверскому и Кашинскому.
Бьют челом богомольцы твои, Калязинского монастыря клирошане, дьякон Дамаск да чернец Боголеп с товарищами.
Жалоба наша, государь, на того же Калязинского монастыря архимандрита Гавриила. Живет он не гораздо порядочно, позабыв страх божий и обет монашеский. Досаждает нам, богомольцам твоим, научает он, архимандрит, плутов пономарей в колокола не вовремя звонить, в доски колотить. И они, плуты пономари, меди с колоколов много иззвонили, железные языки поприломали, три доски исколотили, шесть колотушек избили; днем и ночью звонят, и нам, богомольцам твоим, покою нет.
Да он же, архимандрит, приказал старцу Иору в полночь с дубиною подле келий ходить, у сеней в двери колотить, нашу братию будить, и велит всем немедля в церковь ходить. А мы, богомольцы твои, вкруг ведра без порток в одних рубахах по кельям сидим. Не поспеть нам ночью, в девять часов, келейное правило совершить, полведра пивной браги опорожнить, все от краев до дна допить, – все оставляем, из келий вон выбегаем.
Да он же, архимандрит, и казны не бережет, ладана да свечей много сжег, а монастырские слуги тешат нрав его: сожгли на уголья четыре овина с рожью.
А он, архимандрит, в уголья ладан насыпал и попам и дьяконам то же сделать приказал. И по церкви ходит да святым иконам кадит, и тем он иконы запылил, кадилом закоптил, а церковь задымил; а нам, богомольцам твоим, дымом все очи выело, горло завалило.
Д по его же архимандритову велению поставлен у ворот с плетью старец кривой Фадалей, не пускает нас, богомольцев, за ворота в слободу сходить, чтобы скотные дворы присмотреть, телят бы в стадо загнать, цыплят бы в подполье покласть, коровницам благословение подать.
Да он же, архимандрит, приехал в Калязин монастырь и начал монастырский чин разорять, старцев-пьяниц всех повыгонял. И дошло до того, что чуть и монастырь не запустел, некому было вперед и завода заводить, чтобы пива наварить да медом подсытить, на оставшиеся деньги вина прикупить, помянуть умерших старцев-пьяниц. И про то разоренье стало известно на Москве; по всем монастырям да по кабакам осмотр учинили и по осмотре остаток лучших бражников сыскали – подьячего Лукьяна, пьяницу Сулима да с Покровки безграмотного попа Колотилу, для образца их в Калязин прислали, чтобы дела не позабыли, кафтаны добрые свои с плеч спустили, чтобы чина монастырского не забывали, да и своего бы ремесла не скрывали, прочих бы пить научали.
И наша братия в Калязине, все клирошане, с любовью их мастеров, старых питухов, принимали, вкупе с ними о деле размышляли, как бы государевой казне прибыль дать, а в своей мошне денег не держать. А если б нам, богомольцам твоим, власти не мешали, мы бы ничего не жалели и колокола бы поснимали да в Кашине бы на вино променяли.
Да он же, архимандрит, убыточно живет, в праздники и в будни на шею нашей братии накладывает большие цепи, да об нас много батогов изломал, плетей порвал, и тем он казне немалый убыток причинил, а себе мало прибыли получил. В прошлом году, государь, весна была красна, пенька росла крепка, а мы богомольцы твои, меж собою совет держали, чтоб из той пеньки веревки свивать долгие да крепкие, было бы чем из погреба бочки с пивом волочить да по монашеским кельям развозить, было бы чем у сеней двери завалить, чтобы будильщика в келью не пустить, чтоб не мешал он нам пива попить и всю ночь, забавляясь, без штанов просидеть.
А он, архимандрит, догадался и нашего монашеского челобитья испугался: приказал ту пеньку в веревки свивать, да вчетверо сгибать, да на короткие палки навязывать, и вздумал это плетьми называть, а слугам приказал высоко их подымать да на нашу, богомольцев твоих спину тяжко опускать. А нас он, архимандрит, учил, стоя почасту, каноны петь, а нам, богомольцам, и лежа пропевать не поспеть, потому как за плечами тело недужно, а под плетьми лежать душно. А мы, богомольцы твои, по его архимандритову приказу поневоле в церковь идем и по книгам читаем и поем, а зато нам он долго есть не дает, и заутрени и обедни, государь, все не евши поем.
Да он же, архимандрит, нам, богомольцам твоим, и всем лучшим и славным людям, бражникам и пьяницам, гоненье творит, – когда есть прикажет, то ставит пареную репу да редьку вяленую, кисель овсяный, щи мартовские, посконную кашу в вязовой плошке, а в братину квас нальют да стол подадут. А нам, богомольцам твоим, то не сладко – редька, да хрен, да чашник Ефрем. А по нашему бы разуму лучше было бы для постных дней: вязига, да икра, да белая рыбица, тельное, да по две тешки паровых, да семга и сиг, да десять стерлядок, да по три пирога, до по два бы блина пшеничных, молочная каша, а кисель бы с патокою, а в братине бы пиво крепкое, мартовское, да мед, сваренный с патокою.
А у него, архимандрита, и на то не стало разума, – один живет да хлеб сухой жует, мед-то перекис, а он воду пьет. И мы, богомольцы твои, тому дивимся: мыши с хлеба опухли, а мы с голоду мрем. И мы его, архимандрита, добру учили, ему говорили: «Коли ты, архимандрит, хочешь с нами в Калязине дольше пожить, а себе большую честь получить, так ты бы почаще пиво варил да нашу братию поил, пореже б ты в церковь ходил и нас, богомольцев не томил»… Смилуйся, государь, чтобы наши виноватыми не были, затем что за него, архимандрита, нам в казну платить нечем; затем что живем мы, клирошане, небогато; только и добра у нас – ложка да плошка. А если ему, архимандриту, перемены не будет, то мы, богомольцы твои, ударим его, архимандрита, обухами и пойдем в другой монастырь. Где пиво да вино найдем, там и жить начнем; а коли там не загуляем, не помедлим, богомольцы твои, то и вновь в Калязине побываем.
Великий господин преосвященный Симеон, архиепископ Тверской и Кашинский, смилуйся, пожалуй нас.
Вопросы и задания
1. Дайте характеристику бытовавшим в России в XVII веке принципам судопроизводства.
2. Охарактеризуйте социальные отношения в России в XVII веке на материале «Повести о Ерше Ершовиче».
3. Чьи интересы защищает государство в случае, описанном в «Повести о Ерше Ершовиче»?
4. О каких пороках монашества идет речь в «Калязинской челобитной»?
5. Вспомните, что предпринимали светские и церковные власти для искоренения безнравственности среди священнослужителей в правление Ивана Васильевича Грозного, Алексея Михайловича Тишайшего. Изменилось ли что-нибудь в монастырской жизни?
Русское искусство XVII в. (в особенности второй половины столетия) настолько явственно отличается как от предыдущего, так и от последующего этапа развития отечественной художественной культуры, что это естественно вызывает желание определить его своеобразие в категориях теории стилей. Такие попытки делались неоднократно начиная с середины прошлого столетия, но приводили к противоречивым результатам: если некоторые исследователи считали русское искусство XVII в. одним из этапов развития художественной культуры средневековья, то другие доказывали его принадлежность к общеевропейской линии эволюции художественных стилей, отождествляя его с барокко, ренессансом или маньеризмом. Эти разногласия отрицательно сказывались на изучении искусства данного периода и даже на сохранности памятников. Так, признание иконописи XVII в. в целом средневековой приводило не только к искажению общей картины ее развития, к игнорированию или тенденциозной оценке ключевых ее произведений, но и к гибели икон, написанных в нетрадиционной манере и потому обойденных вниманием музейных экспедиций и частных коллекционеров. Отождествление же русского искусства XVII в. с одним из западноевропейских художественных стилей чревато утратой представления о своеобразии национальной культуры, отвечающем историческим условиям развития Русского государства. Поэтому сейчас, когда отечественное искусство XVII столетия изучается особенно интенсивно, кажется актуальным критический анализ основных концепций стиля, существующих в научной литературе. Поскольку в европейском искусствознании представление о стилях первоначально сложилось на архитектурном материале, то и отечественная историография этого вопроса зародилась как историография архитектуры. Еще в 1847 г. И. М. Снегирев указывал, что церковь Покрова в Филях выстроена в стиле «Возрождения... или лучше сказать Барокко»(1). Таким образом, И. М. Снегирев считал барокко одним из этапов развития искусства ренессанса и использовал эти термины как синонимы. Попытки Л. В. Даля и А. М. Павлинова(2) ввести иные обозначения стиля также не увенчались успехом: «петровское зодчество» Л. В. Даля оказалось понятием и слишком узким (поскольку оно связывало всю архитектуру конца XVII в. с Петром I), и слишком широким, так как в него попадала и архитектура первой четверти XVIII столетия. Определение, данное А. М. Павлиновым,-«период упадка»- вызвало обоснованный протест со стороны Н. В. Султанова, показавшего, что в России XVII в. «замечается то же явление, которое мы видим на Западе двести-полтораста лет ранее, то есть в эпоху так называемого Смешанного стиля, когда сооружения готические по своей основе облеплялись деталями стиля Возрождения... А значит, здесь мы имеем дело с появлением нового направления в искусстве, которое никак нельзя назвать "периодом упадка", то есть продолжением старого». Относительно же сущности этого стиля Н. В. Султанов заметил следующее: «Он представляет собою формы третьего периода итальянского Возрождения, или периода Барокко, зашедшие к нам через немецкие руки и видоизмененные на русской почве. Если мы признаем, что Франция, Германия и даже Нидерланды могли переработать настолько формы итальянского Возрождения, что современная историко-архитектурная наука признает французский Ренессанс, немецкий Ренессанс, фламандский стиль и пр., и пр., то мы не видим причины, почему... допетровская Русь не могла того же сделать. Если мы хотим быть последовательными, то безусловно должны признать и русский Ренессанс...»(3). Нетрудно заметить, что в работах историков архитектуры наметилась тенденция к использованию обозначений стиля, сложившихся на западноевропейском материале. К живописи XVII в. во второй половине XIX-начале XX в. применялись лишь «квазистилистические» определения. Г. Д. Филимонов говорил о «греческом» и «фряжском» стилях, понимая под первым более традиционное направление в иконописи, а под вторым - передовое, ориентирующееся на Запад. Даже если отождествить «греческий стиль» со старым средневековым (хотя, по мысли Филимонова, они не тождественны, ибо «греческий стиль» отличается «значительными против древних переводов улучшениями в рисунке и технике»(4)), то характер «фряжского» остается неясным. Сама по себе ориентация на искусство Западной Европы ничего не говорит о существе стиля, так как в Европе этого времени можно было обнаружить и реминисценции средневековья, и отголоски ренессанса, и элементы маньеризма, и разные варианты барокко, и классицизм. Поэтому и Н. П. Сычев, указывая на происшедшую, по его мнению, в середине XVII в. смену «немецких» стилей «фламандскими»(5), констатировал лишь факт обращения к западным образцам, независимо от их стилевой принадлежности. Аналогичным образом и И. Э. Грабарь разделял эту живопись на четыре течения. В одном из них (живопись в церкви Григория Неокесарийского в Москве, Ильи Пророка в Ярославле) сочетался «строгановский» стиль с «фрязью»; в другом (Тихон Филатьев, Никита Павловец, Кирилл Уланов) - «строгановский» стиль и старые образцы. Представителем третьего, «живописного», течения был назван Федор Зубов, а к четвертому (крайнему левому) отнесены Богдан Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский-«якобинцы» XVII в., вскормленные Симоном Ушаковым, «в искусстве которых исчезают последние следы и без того уже довольно призрачной традиции»(6). Если рассмотреть все эти определения последовательно, то в первом случае перед нами попытка обозначить одно неизвестное через два других- ведь ни «строгановский», ни «фряжский» стили тоже не имеют четкой формулировки. Во втором направлении И. Э. Грабарь усматривал сочетание традиций строгановской школы (где, по его словам, в свою очередь сочетались старые образцы с новыми тенденциями) опять-таки со старыми образцами (?). Произведения главы «живописного» направления Зубова живописны не более работ того же Уланова; неясно также, в чем выражалось «вскармливание» мастеров последнего направления Ушаковым, если армянин Салтанов прибыл в Россию уже зрелым мастером, Безмин учился у С. Лопуцкого и Д. Вухтерса, Познанский, в свою очередь,-у Безмина, а жалованье они получали не от Ушакова, а от царя. Кроме того, версия о полной нетрадиционности этих живописцев не соответствует истине. В столичных памятниках второй половины XVII в. обязательно наличествуют как новые, так и традиционные черты, хотя их соотношение может широко варьироваться. В советское время проблема стиля применительно к русской живописи XVII в. была поставлена в 1926 г. авторами сборника «Барокко в России», но и здесь архитектурная часть оказалась более разработанной, чем живописная. Термин «барокко» по отношению к русскому зодчеству XVII в. к тому времени уже имел длительную историю существования, начиная с И. М. Снегирева и кончая Ф. Ф. Горностаевым, утверждавшим, что «со времени воцарения Феодора Алексеевича в московской храмовой архитектуре начинает пробиваться новая струя западноевропейских влияний, быстро вылившаяся в мощные формы Барокко»(7)., В 1920-е гг. вопрос «барокко или не барокко?» казался особенно привлекательным из-за мнимой легкости его разрешения: достаточно применить к русскому материалу формально-стилистический, или социологический, или какой-либо иной новый для отечественного искусствознания метод, и проблема перестанет существовать. Именно так и писал Ф. И. Шмит в 1929 г.: «...нам остается только приложить полученные выводы к... частному вопросу истории уже русского искусства»(8). Однако именно эта альтернативная постановка вопроса и стала основным подводным камнем для авторов сборника «Барокко в России». Правильнее было бы спросить, не барочно или антибарочно русское искусство XVII в., а что оно представляет само по себе, безотносительно к европейскому барокко. Метод исследования, выбранный авторами, стал прокрустовым ложем для изучаемого предмета: те черты русского искусства, которые не подпадали под принятое данным ученым определение барокко, либо игнорировались-у В. В. Згуры, признававшего русское барокко, либо гипертрофировались - у Н. И. Брунова, отрицавшего его. В. В. Згура обнаруживал в русской архитектуре XVII в. даже два этапа развития барокко, рубежом между которыми считал 1670-е гг. Сопоставив церковь Николы на Берсеневке со Смоленским собором Новодевичьего монастыря, он нашел в первом памятнике «живописность, единство стены при скульптурном ее понимании и разработке, массивность, интенсивность замкнутого движения, которые являются, как известно, основными принципами архитектуры барокко... и указывают на то, что в данном случае мы имеем дело с продуктом именно некоего барочного способа мышления»(9). Далее для иллюстрации своего тезиса автор привлек многочисленные примеры из области русской архитектуры XVII в..трактуемые им в том же чисто формальном плане. Характерно, что русские постройки XVII в. сравнивались не с памятниками западноевропейского барокко, а исключительно с предшествующим древнерусским зодчеством. Когда же В. В. Згура апеллировал к барокко Западной Европы, он ограничивался общими высказываниями типа: «некоторое барочное выражение», «памятник в общем барочной архитектуры», «тенденция к мироощущению, отчасти близкому барокко». Неконкретны и его наблюдения над европеизирующими деталями архитектуры XVII в.: нередко тот или иной декоративный мотив (в том числе розетка, встречающаяся еще в готике, и раковина, типичная для ренессанса) относится к стилю барокко, поскольку «такая форма, по моему утверждению (разрядка наша.- И. Б.-Д.), является барочной»(10). По существу, статья В. В. Згуры доказала не столько барочность русской архитектуры XVII в., сколько ее несомненное отличие от предшествующего средневекового русского зодчества. Если В. В. Згура сосредоточил внимание на новых чертах русской архитектуры XVII в., то Н. И. Брунов, наоборот, подчеркнул ее традиционность, связь с предыдущим этапом. В отличие от первого автора он на примере церкви Покрова в Филях выделил другие особенности, характерные для зодчества этого времени-связь здания с природой, преобладание пространства над массой, «каркасность» декора, тектонику и структурность, и пришел к противоположному выводу: русская архитектура XVII в. не имеет ничего общего с барокко, в ней «полным победителем осталось средневековое мировоззрение»(11). А. И. Некрасов как бы сочетал обе точки зрения, выделяя и противопоставляя «нарышкинский» стиль (церкви в Петровском-Разумовском, Филях, Троицком-Лыкове) как традиционный средневековый и «тессиновский» (церкви в Дубровицах, Перове, Высокопетровском монастыре, Уборах) как барочный, обязанный своим возникновением шведскому архитектору Н. Тессину 12. В настоящее время убедительно доказано, что приписывание Н. Тессину церкви Знамения в Дубровицах, как и других упоминаемых у А. И. Некрасова памятников, не имеет достаточных оснований(13); церковь Петра Митрополита Высокопетровского монастыря недавними исследованиями выводится из круга памятников XVII в.(14), а версия о западном происхождении строителя церкви в Уборах Я. Г. Бухвостова, кратко изложенная в статье в подтверждение «барочности» его архитектуры, основана на недоразумении (тем более что Я. Г. Бухвостов вряд ли может считаться автором церкви в Уборах)(15). Неверны и датировки многих ключевых памятников, что привело к значительным искажениям картины развития русского зодчества XVII в. Таким образом, можно считать, что концепция А. И. Некрасова, основанная на недостаточно изученном материале, не выдержала проверку временем и сейчас представляет чисто историографический интерес. Авторы статей, посвященных живописи XVII в.,-М. В. Алпатов, Г. В. Жидков, А. Н. Греч16 - единодушно определили ее стиль как «родственный западному барокко». Отчасти это объяснялось неконкретностью их представлений о барокко, ярко выраженной в формулировке А. Н. Греча: «Барокко-стиль, народившийся в Италии в XVI столетии, как противовес (реакция) против строгой закономерности искусства высокого Возрождения. Он производит впечатление, главным образом, борьбы противоположных и разнородных, выраженных в художественном произведении сил»(17). «Борьбу противоположных и разнородных сил» можно обнаружить в любом объекте; декларированная же в процитированном отрывке мысль о связи барокко с Возрождением осталась нереализованной. Кроме того, барокко понималось и как стиль, и как фаза в развитии стиля, что легко позволяло подвести под эту категорию и фрески церкви Успения на Волотовом поле, и скульптуру Пергама, и русское искусство XVII в. Следует отметить и крайнюю ограниченность материала, на котором строились глобальные концепции стиля: авторы привлекали считанное количество памятников и присущие им черты распространяли на всю русскую живопись XVII в(18). Вдобавок фактический материал нередко интерпретировался достаточно поверхностно. Таким образом, например, сложилось бытующее до сих пор мнение о барочности Библии Пискатора, которой пользовались в качестве образца русские иконописцы (а следовательно, и о барочности ее русских воспроизведений). Однако сколько-нибудь внимательное ознакомление с гравюрами этой Библии показывает, что, хотя она вышла в свет в середине XVII в., в эпоху господства барокко, составляющие ее листы были исполнены еще в XVI столетии представителями романизма и маньеризма(19). К рассмотренным работам близка статья Б. Р. Виппера 1944- 1945 гг. «Русская архитектура XVII века и ее историческое место»(20), где стиль русского искусства на основании ряда формально-стилистических параллелей определялся, однако, не как барокко, а как маньеризм. В кратком социологическом вступлении Б. Р. Виппер отмечал наличие крестьянского движения и религиозных противоречий как на Западе в XVI в., так и в России в XVII в., а затем смело сопоставлял Понтормо с учениками Симона Ушакова, росписи палаццо дель Те с ярославскими фресками, лестницы Микеланджело и Палладио-с лестницами нарышкинских церквей. Однако даже если допустить, что крестьянское движение и религиозная борьба на Западе в XVI в. точно соответствовали подобным явлениям в России в XVII в., то следовало бы еще доказать, что именно они послужили необходимой и достаточной причиной возникновения маньеризма, и только маньеризма, а не какого-либо иного стиля или течения. Методологическим недостатком статьи является и отсутствие определения маньеризма как стиля, его специфических содержательных и формальных свойств. По ходу изложения ему приписываются такие особенности, как: 1) «пассивное мировосприятие, подавление личности, обесценение разума и воли во имя чувства и веры»; 2) «попытка найти переход от иконы к картине»; 3) «стремление превратить живопись в узорный ковер»; 4) «репертуар маньеризма: картуш, лоза, ступенчатый фронтон с фиалами или обелисками, витые или узорные колонки»(21). Нетрудно заметить, что первое характерно не столько для маньеризма, сколько для средневековья, второе-для ренессанса, третье свойственно, например, интернациональной готике, а четвертое-излюбленный декоративный набор барокко. Снижает ценность работы и недостаточное знакомство автора с русским искусством XVII в. и его отдельными памятниками(22). Не подлежит сомнению, что некоторые формы и детали в этот период действительно заимствовались из арсенала маньеризма, но они не имеют ни количественного, ни качественного преобладания над другими (барочными, ренессансными, средневековыми) и не определяют существа стиля. В церкви Покрова в Филях центрическая композиция храма с четырехлепестковым планом восходит к архитектурным решениям ренессанса (церкви в Тоди, Лоди), многие мотивы декора иконостаса (разорванные фронтоны, картуши и увитые лозой колонки) типичны для барокко, а картуши, обрамляющие клейма икон местного ряда иконостаса, несомненно, скопированы с маньеристических гравюр. Этот факт весьма интересен и нуждается в интерпретации, но в статье Б. Р. Виппера он объяснения не получил. Точка зрения Б. Р. Виппера не нашла сколько-нибудь широкого распространения в современной научной литературе(23), в то время как концепция «русского барокко» по-прежнему пользуется популярностью. К сожалению, новые работы на эту тему нередко не только не исправляют, но еще умножают ошибки, содержавшиеся в старых(24). В то же время почти не замеченными и должным образом не оцененными оказались исследования, где стиль интерпретировался не формально, а содержательно, исходя из общего характера эпохи_и ее значения в истории России. Первое такое развернутое определение было дано в 1911 г. М. В. Красовским, писавшим: «Время, в которое пришлось работать этим мастерам, было переходное; в воздухе чувствовалась близость какого-то перелома...; передовым людям того времени было ясно, что... сравниться с Западом можно только при условии усвоения результатов его культуры»(25). Действительно, вторая половина XVII столетия - переходное время в истории России. Это переход от средневековья к новому времени, в экономическом плане обусловленный складыванием всероссийского рынка и зарождением буржуазных отношений. Мно гие европейские страны совершили этот переход значительно раньше, и в области культуры он привел к возникновению ренессанса и аrs nova. При этом во всех странах, вступавших в эпоху новой истории, имела место секуляризация духовной жизни общества а прочие черты ренессанса, как, например, гуманизм, возрождение античности и т. п., были только конкретной формой выражения этой секуляризации и потому могли проявляться очень своеобразно или даже не проявляться вовсе. Это своеобразие перехода от средневековья к новому времени было тем больше, чем дальше (географически и хронологически) от очага итальянской ренессансной культуры находилась данная страна. По смыслу будучи ренессансным, ее искусство облекалось в пестрые одежды ренессансных, маньеристических, барочных, а иногда и классицистических форм, и все это при сохранении своей, еще с ясно выраженными средневековыми особенностями, национальной основы. Именно эта стилистическая пестрота русского искусства второй половины XVII в. зачастую ставил в тупик историков искусства, руководствовавшихся только сравнительным методом или формальным анализом, выявляя ограниченность этих инструментов научного исследования. Положение о ренессанснрм типе русской культуры XVII в. было обосновано Б. В. Михайловским и Б. И. Пуришевым. Эти авторы раскрыли многие характерные черты искусства XVII столетия и дали им непротиворечивое истолкование. Обособление пейзажа, появление жанра живописи XVII в., любовь мастеров к вещи, детали, новое понимание пространства и становление прямой перспективы, новый тип героев-все это, ранее с большим трудом укладываемое в концепцию «русского барокко», впервые нашло себе логичное объяснение(26). Авторы отнюдь не преувеличивали степень зрелости новых элементов в художественной культуре XVII столетия. Однако, отмечая ее традиционные, средневековые стороны, они все же сочли возможным сделать достаточно определенный вывод: «Русское искусство в своей основной струе созвучно в известной мере искусству раннего западного ренессанса»(27). С нашей точки зрения, эта формула точно отражает существо дела. Действительно, русское искусство XVII в. ни в коем случае, не тождественно, а лишь созвучно раннему ренессансу: оно соответствует ренессансу не стилистически, а типологически, не по форме а по существу. Кроме того, новыми тенденциями затронуто не все искусство этого периода, а только его основная струя; на периферии же кое-где сохраняется еще не тронутой средневековая основа. В архитектуроведении приблизительно в то же время выступил Е. В. Михайловский, связавший изменения, происходившие в области культуры, с изменением экономического базиса русского общества. В итоге он предложил для русского искусства второй половины XVII в. обобщенный термин - «стиль первого периода нового времени»(28). Недостатком этого определения является его недиалектичность: XVII век- не только первый период нового времени, но и последний период старого, о чем нельзя забывать как при выявлении существа стиля, так и при анализе его конкретных памятников. В литературоведении аналогичная концепция была фундаментально обоснована Д.С. Лихачевым, принципиально исходившим из следующего тезиса: «Признаки любого стиля не существуют сами по себе и не определяют собой целиком тот или иной стиль. Важны функции стиля и его историческая роль. Отдельные признаки стиля барокко сами по себе характерны и для других стилей». Далее он справедливо отметил, что в некоторых чисто средневековых произведениях, если бы датировать их XVII в., сторонники стиля барокко нашли бы еще больше барочных черт, чем в памятниках XVII столетия. По его мнению, «в России XVII в. не было и не могло быть спонтанно возникшего барокко, ибо не было подготовительной стадии-ренессанса. Скорее должен был спонтанно возникнуть ренессанс. Он и возник, ибо пришедшее к нам при посредствепольско-украинско-белорусскрго влияния барокко приняло на себя функции ренессанса, сильно изменившись и приобретя отечественные формы и отечественное содержание. Роль барочных элементов, мотивов и произведений была в России по существу не барочной, и в этом главным образом выразилось своеобразие русского барокко XVII в.»(29). Подавляющее большинство литературоведов, занимающихся сейчас русской литературой XVII в., разделяют точку зрения Д. С. Лихачева. Однако все они пользуются термином «русское барокко», отмечая при этом его своеобразие и нетождественность с барокко западноевропейским. Отчасти это оправдано спецификой материала: в литературе в силу ряда причин барочная окраска была выражена сильнее, чем в изобразительном искусстве и архитектуре. По отношению к последним применение этого термина значительно более спорно. Стиль барокко-это вполне определенная и устоявшаяся научная категория; поэтому, несмотря на оговорки о своеобразии и «небарочности» русского барокко, исследователи невольно начинают ориентироваться на выявление барочных черт в русском искусстве XVII в., что препятствует созданию целостной картины его развития. Однако, невзирая на неудачность такого наименования, дать название стилю по существу («стиль перехода от средневековья к новому времени, стадиально соответствующий ренессансу») не представляется возможным, так как из-за сложности и описательности подобные определения неупотребимы в качестве названия стиля. Наверное, здесь следовало бы выбрать чисто условный краткий термин, предварительно оговорив его содержание; желательно также, чтобы он уже употреблялся применительно к искусству XVII в. ранее, то есть имел свою традицию, и чтобы он хотя бы отчасти был связан с обозначаемым предметом. Нам кажется, что таким термином можно было бы выбрать выработанное на материале архитектуры понятие "нарышкинский стиль". Его употребление в архитектуроведении было мотивировано М. В. Красовским, который писал: «...стиль этот довольно часто именуется „нарышкинским"; последнее название наиболее меткое... так как оно, по крайней мере, подчеркивает тот факт, что большинство церквей этого стиля построено Нарышкиными»(30). Выражением «нарышкинский стиль» широко пользовались А. И. Некрасов, хотя и не в качестве синонима «московского барокко», М. В. Алпатов и О. И. Сопоцинский(31). Этот же термин избрал и Б. Р. Виппер, оговорившись, что «под нарышкинским стилем мы разумеем в данном случае (за отсутствием другого, более подходящего термина) не только определенную группу зданий, выстроенных Нарышкиными, но весь широкий комплекс русской (и особенно московской) архитектуры конца XVII, начала XVIII в.»(32). Действительно, многие выдающиеся постройки того времени, как и произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, были созданы по заказу семьи Нарышкиных, и если в литературе утвердилось название «строгановская школа» иконописи, которая была связана в первую очередь не со Строгановыми, а с царским двором, то с тем большим основанием можно говорить о «;нарышкинском стиле» в искусстве второй половины XVII в. Таким образом, по нашему мнению, стиль русского искусства второй половины ХVII в.является, переходным. от средневековья, к новому \ времени. Новые элементы в нем накладывались на старую средневековую основу, которая постепенно трансформировалась, все больше отходя от старых канонов и приближаясь к новому европейскому искусству. Отдельные элементы этого стиля охотно заимствовались из арсенала западноевропейской художественной культуры. Изучение эстетических предпочтений русских людей того времени на основании дневников заграничных путешествий и статейных списков(33) показывает, что положительную оценку у современников получали произведения нового (не средневекового) искусства без какой бы то ни было дифференциации по стилям. И ренессанс, и маньеризм, и барокко воспринимались не стилистически, а типологически-как антитеза культуре средневековья. Поэтому стиль русского искусства второй половины XVII в., стадиально соответствующий раннему ренессансу, со стороны формы не поддается определению в категориях, сложившихся на западноевропейском материале. Наиболее целесообразным термином для его обозначения представляется имеющий длительную традицию употребления в научной литературе термин «нарышкинский стиль».
Данный рассказ начинается со сцены суда. История такова: Боярин, воевода Сом и еще двое мужчин (Судак и Щука-трепетуха) подали жалобу на Ерша. История, которая закончилась в суде, начиналась вполне незамысловато и не предвещала такой развязки.
Как-то раз, он попросил пожить у мужиков. Территория та, естественно на тот момент ему не принадлежала. Естественно, добрые люди не отказали и пошли навстречу товарищу. прошло немало времени и Ерш взял дело в свои руки и самовольно решил выгнать проживающих на той территории крестьян, несмотря на то, что права на это у него не было.
Во время судебных разбирательств Ерш в качестве оправдания говорил о том, что озеро, на котором он обустроились, испокон веков принадлежало еще его дальним родственникам, а он лишь восстановил справедливость. Он говорит о том, что в данном случае именно мужики бесцеремонно вторглись в его личное пространство, не имея никаких прав на совершение таких действий.
В ходе разбирательства подключаются и свидетели (деревенские мужики). Большинство из них крайне отрицательно отзываются о Ерше, рассказывают о том, что он грабил честных людей, и репутация у его рода совсем не такая, как говорит Ерш.
После, перед судьями встает Осетр, он также рассказывает о низком поступке Ерша. Он рассказывает один неприятный случай, который произошел некоторое время назад. Однажды Осетр в поисках корма отправился в путь, а Ерш запутал его и предложил идти совершенно в противоположном направлении.
А заключение, выслушав обе стороны и проанализировав действия Ерша, суд приговаривает Ерша к смертной казни.
Основная мысль данного произведения состоит в одной простой и элементарной истине, которую еще с детства нам взращивают наши родители: «Все тайное рано или поздно становится явным». Никакие злостные дела, плохие поступки не останутся незамеченными, а закон незамедлительно среагирует и добьется справедливости.
Картинка или рисунок Повесть о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове
Другие пересказы и отзывы для читательского дневника
- Краткое содержание Крапивин Брат которому семь
Алька – это мальчик, которому семь лет. Он – большой романтик, любит и верит в сказке. А также, он очень добрый, хотя это не мешает его старшей сестре по имени Марина часто ругать и наказывать его. Сам Алька имеет место
- Краткое содержание Кантемир Сатиры
Первая сатира в книге называется «На хулящих учение». Сатира описывает аргументы людей, которые были против науки. По словам Критона
- История создания повести Тарас Бульба Гоголя кратко
Идея создания великого произведения "Тарас Бульба" появилась у писателя примерно в 1830 годах. Стоит отметить, что на создание данного произведения ушло более десяти лет
- Краткое содержание Русский лес Леонов
Окончив школу, Поля Вихрова приезжает в Москву, чтобы продолжить учебу. Ее мама Елена Ивановна, работающая в Пашутинской больнице, осталась дома.
- Краткое содержание Васильев Утоли моя печали...
Действие романа происходит в Москве. Речь идет о Наденьке Олексиной. У нее довольно тяжелая судьба. В раннем возрасте она потеряла мать, а потом трагически погиб брат и сестра. Из-за переживаний умирает и отец.
«Рыбам господам: великому Осетру и Белуге, Белой рыбице, бьет челом Ростовского озера сынчишко боярский Лещ с товарищи. Жалоба, господа, нам на злаго человека, на Ерша Щетинника, и на ябедника. В прошлых, господа, годех было Ростовское озеро за нами; а тот Ерш, злой человек, Щетинников наследник, лишил нас Ростовского озера, наших старых жиров расплодился тот Ерш по рекам и по озерам; он собою мал, а щетины у него, аки лютые рохатины, и он свидится с нами на стану — и теми острыми своими щетинами подкалывает наши бока и прокалывает нам ребра, и суется по рекам, аки бешеная собака, путь свой потеряв. А мы, господа христиански лукавством жить не умеем, а браниться и тягаться с лихими людьми не хотим, а хотим быть оборонены вами, праведными судьями».
Судьи спрашивали ответчика Ерша: «ты, Ерш, истцу Лещу отвечаешь ли?» Ответчик Ерш рече: «отвечаю, господа, за себя и за товарищев своих в том, что-то Ростовское озеро было старина дедов наших, а ныне наше, а он, Лещ, жил у нас в суседстве на дне озера, а на свет не выхаживал. А я, господа, Ерш, божиею милостью, отца своего благословением и матерними молитвами, не смутщик, не вор, не тать и не разбойник, в приводе нигде не бывал, воровского у меня ничего не вынимывали; человек я добрый, живу я своею силою, а не чужою; знают меня на Москве и в иных великих городех князи и бояре, стольники и дворяне, жильцы московские, дьяки и подьячие и всяких чинов люди: и покупают меня дорогою ценою, и варят меня с перцом и с шафраном, и ставят пред собою честно, и многие добрые люди кушают с похмелья и кушавши поздравляют».
Судьи спрашивали истца Леща: «ты, Лещ, чем его уличаешь?» Истец Лещ рече: «уличаю его божиею правдою да вами, праведными судьями». Судьи спрашивали истца Леща: «кому у тебя ведомо про Ростовское озеро и о реках и о востоках, и на кого шлешься?»
Истец Лещ рече: «и шлюсь я, господа, из виноватых на добрых людей разных городов и областей; есть, господа, человек добрый живет в немецкой области под Ивановым городом в реке Нарве, по имени рыба Сиг, а другой, господа, человек добрый, живет в Новгородской области в реке Волхове, по имени рыба Лодуга». Спрашивали ответчика Ерша: «ты, Ерш, шлешься ли на Лещеву правду, на таковых людей?» И ответчик Ерш рече: «слатися, господа, нам на таковых людей не уметь; Сиг и Лодуга — люди богатые, животами прожиточны, а Лещ такой же человек заводной, шлемся в послушество». И судьи спрашивали ответчика Ерша: «почему у тебя такие люди недрузья и какая у тебя с ними недружба?» Ответчик Ерш рече: «господа мои судьи, недружбы у нас с ними никакой не бывало, а слатися на них не смеем — для того, что Сиг и Лодуга люди великие, а Лещ такой же человек заводной; они хотят нас, маломочных людей, испродать напрасно».
Судьи спрашивали истца Леща: «еще кому у тебя ведомо Ростовское озеро, и о реках и о востоках, и на кого шлешься?» Истец Лещ рече: «шлюсь я, господа, из виноватых есть человек добрый, живет в Переславском озере, рыба Сельд».
Судьи спрашивали ответчика Ерша: «ты, Ерш, шлешься ли на Лещеву правду?» Ответчик же Ерш рече: «Сиг и Лодуга и Сельд с племени, а Лещ такой же человек заводной: в суседстве имаются, где судятся — едят и пьют вместе, про нас не молвят».
И судьи послали пристава Окуня и велели взять с собою в понятых Мня, приказали взять в правде переславскую Сельд. Пристав же Окунь емлет в понятых Мня, а Мень Окуню приставу сулит посулы великие и рече: «господине Окуне! аз не гожуся в понятых быть: брюхо у меня велико — ходить не могу, а се глаза малы, далеко не вижу, а се губы толсты — пред добрыми людьми говорить не умею». Пристав же Окунь емлет в понятых Головля и Езя. И Окунь поставил в правде переславскую Сельд. И судьи спрашивали в правде у переславской Сельди: «Сельд, скажи ты нам про Леща и про Ерша и промеж ими про Ростовское озеро». Сельд же рече в правде, — «Леща с товарищи знает; Лещ человек добрый, христианин божий, живет своею, а не чужою силой, а Ерш, господа, злой человек, Щетинник, ябедник, скитается по рекам и по озерам, а где тот Ерш впросится ночевать, и он тут хочет и племя развести». И судьи спрашивали. — «Правда, Сельд переславская, скажи ты про того Ерша, знают ли его на Москве князья и бояре, дьяки и дворяне, попы и дьяконы, гости богатые?» «Правда, — Сельд переславская сказала, — знают его на Москве на земском дворе… ярышки кабацкие; у которого лучится одна деньга, и на ту деньгу купит Ершев много, половину съедят, а другую расплюют и собакам размечут, да сверх того ведомо то и самому Осетру, каков тот Ерш!» И Осетр сказал: «господа! Аз вам не правда, ни послух и скажу вам правду божию, а свою беду: когда я шел из Волги-реки к Ростовскому озеру и к рекам жировать, и он меня встретил на устье Ростовского озера и нарече мя братом, а я лукавства его не ведал, а спрошать про него, злого человека, никого не случилось, и он меня вопроси: братец Осетр, где идеши? И аз ему поведал: иду к Ростовскому озеру и к рекам жировать. И рече ми Ерш: братец Осетр, когда аз шел Волгою-рекою, тогда аз был толще тебя и доле, бока мои терли у Волги-реки берега, очи мои были аки полная чаша, хвост же мой был аки большой судовой парус; ныне, братец Осетр, видишь ты и сам, каков я стал скуден, иду из Ростовского озера. Аз же, господа, слышав такое его прелестное слово, и не пошел в Ростовское озеро к рекам жировать; дружину свою и детей голодом морил, а сам от него в конец погинул. Да еще вам, господа, скажу: тот же Ерш обманул меня, Осетра, старого мужика, и приведе меня к неводу и рече ми: братец Осетр, пойдем в невод: есть там рыбы много. И я его нача посылати наперед. И он, Ерш, мне рече: братец Осетр, коли меньшой брат ходит наперед болыпаго? И я на его, господа, прелестное слово положился и в невод пошел, обратился в невод да увяз, а невод — что боярский двор: итти ворота широкие, а вытти узки. А тот Ерш за невод выскочил в ячею, а сам мне насмехался: ужели ты, братец, в неводу рыбы наелся! А как меня поволокли вон из воды, и тот Ерш нача прощатися: братец, братец Осетр! прости, не поминай лихом. А как меня мужики на берегу стали бить дубинами по голове, и я нача стонать, и он, Ерш, рече ми: братец Осетр, терпи христа ради!»
Конец судного дела. Судьи слушали суднаго дела и приговорили: Леща с товарищи оправить, а Ерша обвинить. И выдали истцу Лещу того Ерша головою и велели казнить торгового казнию — бити кнутом и после кнута повесить в жаркие дни против солнца за воровство и за ябедничество. А у суднаго дела сидели люди добрые: дьяк был Сом с большим усом, а доводчик Карась, а список у судного дела писал Вьюн, а печатал Рак своей задней клещею, а у печати сидел Вандыш переславской. Да на того же Ерша выдали правую грамоту: где его застанут в своих вотчинах, тут его без суда казнить.
Рече Ерш судьям, — «господа судьи! судили вы не по правде, судили по мзде. Леща с товарищами оправили, а меня обвинили». Плюнул Ерш судьям в глаза и скочил в хворост: только того Ерша и видели.
В одном из городов Ростовского уезда идёт суд. Боярин Осётр, воевода Хвалынского моря Сом и судные мужики - Судак и Щука-трепетуха рассматривают челобитную на Ерша, которую составили крестьяне Ростовского уезда, рыбы Лещ и Голавль. Они обвиняют Ерша в том, что он, придя с Волги-реки в Ростовское озеро, которое исстари было их вотчиной, попросился пожить вместе с семьёй, а потом освоился, расплодил детишек и выгнал их, крестьян, из вотчины, безраздельно завладев их наследственным владением, Ростовским озером. Ёрш отвечает суду, что он, родом из мелких бояр, никого не бил и не грабил, поскольку Ростовское озеро всегда было его собственностью и принадлежало ещё его деду, старому Ершу, а Лещ и Голавль - его, Ерша, обвинители - были у его отца в холопах.
Ёрш в свою очередь обвиняет Леща и Голавля: они, неблагодарные, забыв о том, что он отпустил их на волю и велел жить у себя, во время голода отправились на Волгу и расселились там по заливам, после чего начали покушаться на его голову с челобитьем. Ёрш жалуется суду, что Лещ и Голавль сами - воры и разбойники и желают вконец разорить его. Ёрш завершает свои речи тем, что упоминает о знакомствах с большими князьями, боярами и дьяками, которые кушают его, Ерша, и «с похмелья животы поправляют». Истцы же, Лещ и Голавль, в ответ на запрос судей, ссылаются на свидетелей и просят, чтобы за ними послали и их выслушали.
И свидетели показывают, что Лещ и Голавль - добрые люди, божии крестьяне, кормятся от своей силёнки, живут своей вотчиной, а Ёрш - ябедник, лихой человек, вор и разбойник, никому от него житья нет, и многих честных людей он своими кознями разорил и погубил голодной смертью. Свидетели утверждают, что рода он самого низкого и не боярского, а что касается до знакомства и дружбы с князьями и боярами, то Ёрш нагло лжет, ибо хорошо знают Ерша лишь неимущие люди, бражники и всякая кабацкая голытьба, которым не на что хорошей рыбы купить.
Последним перед судьями предстаёт Осётр и рассказывает им о том, как подло и коварно поступил с ним Ёрш: он встретил его, Осётра, в устье Ростовского озера, назвался ему братом и отсоветовал идти к озеру, где, как Осётр потом узнал, всегда есть обильный корм. Осётр поверил Ершу, из-за чего семейство его чуть не померло с голоду, а сам он попал в невод, куда нарочно его заманил злонамеренный Ёрш. Суд со вниманием выслушивает истцов, свидетелей и ответчика и приговаривает: Леща и Голавля оправдать, а Ерша обвинить и выдать истцу, Лещу. Ерша казнят торговой казнью и вешают за воровство и ябедничество в жаркие дни на солнце.